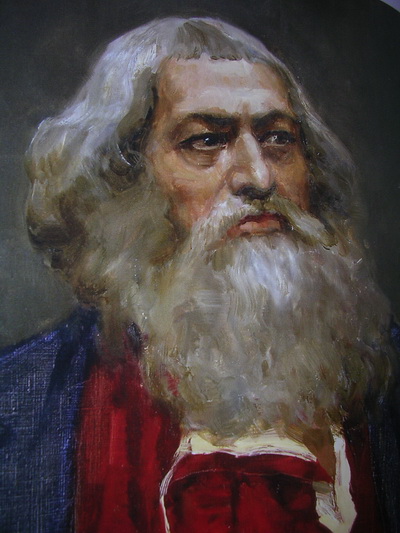
Иван Осипов сын Сусанин — крестьянин Костромского уезда села Домнина, принадлежавшего Романовым; известен как спаситель жизни царя Михаила Федоровича Романова. Так же мы знаем, что Иван Осипович был старостой в этом боярском селе. Двор у него был исправный, то есть по крестьянским меркам Иван Осипов был довольно зажиточным. Крестьяне его уважительно прозывали с отчеством как господ благородного происхождения. Сусанин так же занимался мелкой торговлей, и был поставщиком разной снеди к столу архимандрита местного Ипатьевского монастыря. Долгое время единственным документальным источником о жизни и подвиге Сусанина была жалованная грамота царя Михаила Федоровича, которою он даровал в 1619 году.
Грамота была выдана "по совету и прошению матери" молодого царя Ксении Ивановны Романовой урожденной Шестовой женой Федора Никитича Романова. Филарет (Федор Никитич Романов) — провозглашенный патриархом московским Лжедмитрием II в октябре 1608 года, в миру Феодор, старший сын боярина Никиты Романовича.
Предполагают, что он родился от второго брака Никиты Романовича, между 1554 и 1660 годом. Чтобы завершить вступление нужно сказать еще пару слов о Федоре Никитиче Романове, в октябре 1600 года царь Борис Федорович Годунов приказал разгромить подворье Романовых. Этот погром был связан с «колдовским процессом» братьев Романовых, обвиненных в покушении на жизнь царя. При обыске были найдены «некие коренья». Конечно, все было инспирировано царем Борисом, который только перед этим сослал Богдана Бельского в Нижний Новгород. Федора Никитича насильственно постригли в монахи. К 1608 году Федор Никитич Романов – Филарет уже стал митрополитом Ростовским. Именно в Ростове Филарет был захвачен сторонниками Лжедмитрия II и отправлен под Москву в Тушино, где стоял табором «тушинский вор».
У Ивана Осиповича Сусанина была Антонида Иванова дочь Сусанина, которая состояла в замужестве за крестьянином села Домнина Богданом Сабининым. Именно ему, крестьянину Костромского уезда, села Домнина, "Богдашке" Сабинину была отписана половина деревни Деревищ за то, что его тесть Иван Осипович Сусанин, которого "изыскали польские и литовские люди и пытали великими немерными пытками, а пытали, где в те пори великий государь, царь и великий князь Михаил Феодорович..., ведая про нас... терпя немерные пытки... про нас не сказал... и за то польскими и литовскими людьми был замучен до смерти".

Последующие жалованные и подтвердительные грамоты 1641, 1691 и 1837 годов, данные потомкам Сусанина, только повторяют слова грамоты 1619 года. Царская жалованная грамота помимо почета, давала немалые материальные льготы в налогах их обладателям. Именная грамота, выданная на имя Кузьме Минину в том, что он является думским дворянином. В летописях, хрониках и других письменных источниках XVII века почти ничего не говорилось о Сусанине, но предания о нем существовали и передавались из рода в род. До начала XIX века никто не думал, однако, видеть в Иване Сусанине спасителя царской особы.
Таким впервые его представил Щекатов напечатавшим в своем "Географическом словаре" статью о месте прибивание царя Михаила Федоровича Романова до его избрания царем Российским; за ним Сергей Глинка в своей "Истории" прямо возвел Сусанина в идеал народной доблести. Рассказ Глинки буквально повторил Бантыш-Каменский в "Словаре достопамятных людей Русской земли". Вскоре личность и подвиг Сусанина стали любимым предметом и для поэтов, написавших о нем целый ряд стихотворений, дум, драм, повестей, рассказов и тому подобное, и для музыкантов (наиболее известны "Иван Сусанин" — дума Рылеева, "Костромские леса" — драма Н. Полевого, "Иван Сусанин" — опера Кавоса, "Жизнь за Царя" — опера М. И. Глинки).
В 1838 г. в Костроме по повелению императора Николая I воздвигнут Сусанину памятник "во свидетельство, что благородные потомки видели в бессмертном подвиге Сусанина — спасение жизни новоизбранного русскою землею царя через пожертвование своей жизни — спасение православной веры и русского царства от чужеземного господства и порабощения".
Скудость источников и разногласие авторов, повествовавших о подвиге Ивана Сусанина, побудили Н. И. Костомарова отнестись критически и к личности самого Сусанина, и к его подвигу. Исходя, главным образом, из того, что о нем не говорится в современных или близких к его времени летописях и записках, что существующими источниками не подтверждается присутствие польско-литовского отряда близ села Домнина, и что в начале 1613 года Михаил Федорович Романов жил со своею матерью не в селе Домнине, а в укрепленном Ипатьевском монастыре, он видит в Сусанине "одну лишь из бесчисленных жертв, погибших от разбойников в Смутное время". Ему горячо возражали С. М. Соловьев ("Наше время", 1862). М. П. Погодин ("Гражданин", 1872, № 29 и 1873, № 47), Домнинский ("Русский архив", 1871, № 2), Дорогобужин и другие; но все они руководствовались большею частью теоретическими соображениями и догадками.
С конца 1870-х и особенно 1880-х годах, с открытием исторических обществ и губернских архивных комиссий, стали обнаруживаться новые документы о подвиге Ивана Осиповича Сусанина. Открылись почти современные ему "Записки" и многочисленные рукописные "предания" XVII и XVIII веков, в которых очевидно преклонение писавших пред подвигом Сусанина. Иные писавшие о нем прямо называли его "мучеником".

В 1882 году Самарянову, собравшему немало не изданных до него источников, удалось доказать, что поляки и литовцы целым отрядом подходили к селу Домнину с целью убить или пленить молодого царя Михаила Федоровича Романова. Михаил Федорович "скрылся от ляхов" в Ипатьевском монастыре по совету именно Ивана Сусанина из села Домнина, после появления польско-литовского отряда. Положения Самарянова подтверждаются и позднейшими находками документов, относящихся к Сусанину и хранящихся в костромской архивной комиссии, в Археологическом институте.
Сущность преданий о подвиге Сусанина сводится к следующему. После разгрома городской усадьбы Романовых в 1600 году Ксения Ивановна Романова – Шестова с малолетним сыном Михаилом была сослана царем Борисом Годуновым в Костромское имение, где должна была прибывать неотлучно. Некоторое время после избрания на престол Михаил Федорович ещё жил со своею матерью в селе Домнине, родовой своей вотчине. Мать все никак не хотела отдать своего сына, боялась за его жизнь. Помнила рассказы о том, как бояре убивали царя Федора Борисовича, задушили его мать Марию Григорьевну Годунову – Скуратову, надругались над сестрой Ксенией Борисовной.
 Мобильная версия
Мобильная версия